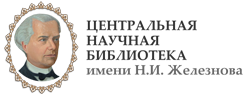Маловичко С.И. Н.И. Железнов и европейское социокультурное пространство
Еще просветители XVIII в. искали в прошлом общие и универсальные законы, но в XIX в. романтики сосредоточили внимание на уникальных и самобытных свойствах. Однако в тексте Железнова, относящемуся к 1866 г. мы находим культурную универсалию всеобщности: «Из определения цели хозяйства ясно видно, что везде, где живут и действуют люди, эта цель может быть достигнута наилучшим образом и что не может быть местности, в которой бы разумное или рациональное хозяйство было не возможно». Конечно, в данном случае на мысль Железнова уже оказывает влияние позитивизм.
В середине XIX в. в европейских науках развивается новое направление – позитивизм. Возвращается просветительский оптимизм и вера в общественный прогресс. Основное внимание направляется на изучение не индивидуального, но всеобщего, постоянно действующего. Среди исследователей культивировался интерес к естественным законам, которым подчинялись природа и человек. Вспомним, сказанные в первой половине XIX в., слова О. Конта, что общественные «изменения» (modifications) всегда подчинены одному детерминированному порядку и поэтому, наблюдая общественные организмы можно проводить их «точное сравнение» (lexacte comparaison). Историк Соловьёв вспоминал о естествознании, когда написал, что прогресс – это явление «общее всем организмам, как природным, так и общественным». Неслучайно, и Железнов в 1871 г. отмечал: «В северных странах, отличающихся краткостью лета и суровостью зимы, в продолжение которой глаз утомляется единообразием снежного покрова, жители должны питать несравненно большую любовь к растениям, нежели в теплых странах, где растительность останавливается на короткое время и то лишь отчасти».
Идею социально-исторического прогресса европейцам дал проект Просвещения и уже с XVIII в. эта идея активно использовалась социогуманитарным знанием. Прогресс манифестировался, как неизбежность и выступал в качестве «всеобщего закона», детерминирующего динамику истории. Прогресс человечества был, прежде всего, прогрессом человеческого разума, поэтому европейская наука, а следом за ней и образование подчеркивали разумность, осмысленность и целенаправленность всемирно-исторического процесса. В XIX в. идея прогресса становится подобна символу веры.
Позитивизм воспринял от рационализма XVIII в. веру в безграничный прогресс общества, убеждение в определяющей роли научных и технических знаний для всего исторического развития. В русской периодике XIX в. мы встречаем репрезентации образов «прогрессивных» войн по завоеванию Кавказа, а затем и Средней Азии, бурно развивающегося хозяйства регионов, победы женского образования и изменения повседневного быта, связанные с идеей прогресса. Эта идея определяла и картину мира в сознании Железнова. У него встречаем такие слова: «уровень народного развития»; «в состоянии изменить» или необходимость русским хозяевам «дружного, деятельного и просвещенного стремления к улучшениям». Вот другая его фраза: «Для России все равно, как бы не строили, лишь бы скорее заменили дерево более безопасными материалами».
Европейская наука уходит своими корнями в антропоцентрическое христианское сознание, которое за тысячелетие усвоило определенное отношение к живой и неживой природе, создав западную культурную универсалию роли человека как «венца творения», отличную от восточного отношения к природе. Железнов в традиции западного модернизационного сознания писал: «Оскудеют реки! стоит ли теперь об этом думать… Вешней воды, по которой у нас совершается главное судоходство, не в силах исчерпать никакое орошение…» Такая позиция русского ученого ни чем не отличалось от отношения его европейских современников к природе. Эта черта европейского сознания стала одной из предпосылок нынешней экологической и демографической ситуаций. Ведь согласно Библии люди были созданы Богом для определенной цели «…и да владычествуют они над рыбами морскими; и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Бог советовал первым людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею».
Дух Просвещения протестовал против оков «невежества» и «суеверия», навязываемых богословской догмой и верой в сверхъестественное, делая выбор в пользу экспериментального и рационального знания и обращаясь в объятия мирской жизни. В европейском модернизационном дискурсе утвердилась вербальная пара «наука и религия». Как указывает К.Т. Макинтайр, в литературе можно найти такие дихотомии как: «светская и религиозная», «естественный и сверхъестественный», «разум и вера», «объективный и субъективный», «современный и средневековый» и др. Религия либо вовсе отрицалась, либо обретала обличье рационалистического деизма или этики естественного закона. Романтизм в отличие от Просвещения уже не видел в религии врага, но в головах образованных людей, в практике светского образования религия уступила перед верой в разум и науку. Итогом такой секуляризации сознания явилось то, что, как отмечает Джейн Эллис, уже с середины XIX в. в России начался массовый отход интеллигенции от церкви.
Николай Бердяев писал, что сама русская религиозная мысль в лице Хомякова и Достоевского провозгласила христианскую свободу. Не только церковная иерархия, не только Церковь не есть уже авторитет, но не есть авторитет и сам Бог. Как бы дополняя Бердяева, Сергей Булгаков продолжает, что так повелось изначала, «еще с духовного отца русской интеллигенции Белинского. И как всякая общественная среда вырабатывает свои привычки, свои особые верования, так и традиционный атеизм русской интеллигенции сделался само собою разумеющеюся ее особенностью… как бы признаком хорошего тона». Стоит ли удивляться, что в одной из статей Железнова встречаются такое строки: «Я не принадлежу к числу поклонников обыкновенной монастырской деятельности, которая заключается в одном богослужении, в затворничестве и вообще в удалении от общества. По моему мнению, одними молитвами невозможно достигнуть спасения собственной души, не принося земле посильной лепты служением человечеству. Поэтому, я с удовольствием увидел бы закрытие многих из наших монастырей». «Меня занимают житейские дела, которыми монастырь приносит пользу многочисленным его посетителям».
Европейская, в том числе русская культура, с начала XIX в. оказались восприимчивы к принятию истории, как системообразующего стержня, на котором держалась европейская и национальные идентичности. В рамках самой европейской культуры на то были еще и религиозные основания: христианское сознание имело представление о развитии и о том, что это развитие имеет цель – совершенствование. Поэтому сама научная история XIX в. и европейский историзм уходят корнями в Библию. Неслучайно, уже в XX в. Марк Блок заметил: «Христианство – религия историков».
В России не только историки профессионалы и писатели романисты обращались к историческим темам. С начала XIX в. обращение к истории в обществе становится одним из способов осмысления настоящего. Естественник Железнов не оказался исключением. В работе «О разведении хмеля в средней России» он обратился к вопросу истории разведения этой культуры в отечественном хозяйстве. В 1861 г. ученый опубликовал небольшую статью «Несколько данных для истории русского садоводства». Конечно, исследователь не был историком, поэтому фактический материал для него оказался более ценным, нежели анализ источников и сообщаемых в них сведений. Профессиональный историк вполне оправданно может назвать такую исследовательскую практику эрудитской, но не надо забывать, что ко времени исторических штудий Железнова никто из них еще не интересовался поднятыми в работах Железнова вопросами.
Как уже можно было заметить, позитивизм у Железнова переплетался с романтизмом, который заново «открыл» природу. Не рациональную и механистическую природу Бэкона и Ньютона, подчинявшуюся познаваемым законам, а всеобщую творящую силу, которая лежала в основе всего сущего. Природа сама устанавливала правила, не подчиняясь разуму человека. Именно такой мотив мы находим в публикации Железнова «Поездка в Крым в 1870 г.» «По моему мнению, развалины тогда только начинают украшать местность, когда на них являются признаки растительности, - пишет он. - Тогда под сению кудрявых дерев или под покровом душистого дерна они кажутся отдыхающими от пережитых событий. Зверство, алчность, славолюбие и их неразлучные спутники – бедствия, страдания, разрушение утрачивают потрясающие свойства, отодвинувшись веками на неизмеримое расстояние. Под пером пытливого историка или искусного романиста они становятся предметом бесстрастного исследования или украшением игривого рассказа. Свидетельницы многого, прошедшего, теперь одинокие опустевшие развалины служат доказательством тщеты человеческой деятельности в сравнении с вечною природою; но вместе с тем, пережив десятки поколений и уцелев от конечного разрушения, они носят на себе следы творчества целых народов, дают мудрому вопрошателю красноречивые ответы о их жизни и деяниях и, как будто с сознанием исполненного долга, сохраняют спокойную величавость».
В этой пространном отрывке находится еще одна интересная культурная коннотация, отсылающая нас в век XVIII-ый, к культуре европейского классицизма. Слова «дают мудрому вопрошателю красноречивые ответы об их жизни и деяниях» ни что иное, как русская рецепция античности. Ведь именно герои Геродота вопрошали пифию или дельфийского оракула. Такая практика была характерна для литературы второй половины XVIII – начала XIX в. Каким образом она появилась в культурной модели ученого, она просто след юношеского образования или осознанное подражание древним, в подходящем для того месте текста? Ответить на этот вопрос сейчас невозможно.
Ключевым для европейцев не только XIX, но и нынешнего века был принцип историзма. В сочинениях романтиков движение истории понималось как органический процесс. У всех явлений появилось дополнительное историческое измерение: их следовало рассматривать в становлении, развитии, расцвете и упадке. Например, у Железнова читаем: «Эта страна, несомненно, была одним из самых первых обиталищ человеческого рода… Развалины зданий, надписи, надгробные камни встречаются здесь почти на каждом шагу.… Если вспомнить, сколько народов спорили из за обладания этим клочком земли…» Такой взгляд подразумевал, что все без исключения эпохи, как необходимые стадии роста человеческого сообщества, были по-своему значимы.